 Паскаль Брюкнер
Паскаль Брюкнер
МОЙ МАЛЕНЬКИЙ МУЖ

- Не дайте ей родить. Залейте цементом, заткните бумагой, тряпьем, делайте что хотите, только законопатьте вашу жену. Этот ребенок должен остаться в ней, слышите, ОН НЕ ДОЛЖЕН ПОЯВИТЬСЯ НА СВЕТ!
- Профессор, вы спятили!

Леон говорил шепотом, чтобы не мешать врачам, суетившимся вокруг его супруги.
- Бросьте все, жену, детей, работу…
- Да что случилось, в конце концов, объясните толком!
- Связь очевидна, она все время была на виду. Эти крошки рождаются в ущерб вам. Чем больше их появляется на свет, тем меньше становится вас. Вы не уменьшаетесь, а скорее сокращаетесь, на манер складного зонтика или шеи черепахи. Каждый раз, когда у вас рождается ребенок, вы как бы втягиваетесь внутрь себя, но выйти обратно, к сожалению, уже не сможете. Вы воплощаете в ускоренном темпе смену поколений: старшие уходят, уступая место тем, кто моложе. Цикл, который обычно занимает тридцать - сорок лет, у вас сократился до нескольких недель.
- Ваша теория абсурдна. Простите, я должен идти, дети вот-вот родятся.
- Леон, - голос Дублеву стал умоляющим, - не ставьте на себе крест, я вас очень прошу. Бегите из этой больницы, уезжайте как можно дальше, я дам вам денег, вы ведь мой любимый пациент...

На Леона вдруг накатила ужасная слабость. Все вокруг словно заволокло пеленой. И на глазах у изумленного персонала он начал убывать, сантиметр за сантиметром. Он оседал, таял, как кусок масла на горячей сковороде.
- Что это с ним? – ахнул один из санитаров.
Это продолжалось добрых пятнадцать минут, медленно, но неуклонно. Леон уменьшался, и это видели все. Взрослые, в растерянности, грешили на оптический обман, а новорожденные, пытаясь сесть, хлопали в ладоши и хохотали, точно в цирке. Медсестры, уверенные, что стали жертвами колдовского обряда, убежали, чтобы позвать на помощь.
Но Леон не испарился, нет – процесс остановился в десяти сантиметрах от пола, и теперь он был ростом с карандаш или перочинный ножик. Дублеву ошибся в расчетах: у природы все точно, как в аптеке, и близнецы стоили своему отцу ровно 78 сантиметров – столько же, сколько двое старших. Осталось достаточно, чтобы продолжать жить, только в другом масштабе.

Врачеватель душ чередовал сочувственные сеансы с сеансами агрессивными. Он выслушивал пациента, а затем призывал его увидеть в происходящем хорошую сторону: разве лучше было бы, стань он жирным, косоглазым и вонючим? Но он выбрал редукцию, стушевался, попросту говоря. Вот это класс! Маленький бонсай вместо огромного баобаба! Сколько верзил, упирающихся в потолок, наверняка ему завидуют! Тем более что одна немаловажная штучка у него по-прежнему в рабочем состоянии. Что еще нужно для жизни, если есть большой и отменно работающий прибор? И он смеет жаловаться, говорить о каком-то комплексе неполноценности? Смеет обращаться к врачу? Ну, знаете ли!
Леону нравились такие выволочки. Это было ему нужнее всяких слов утешения: чтобы кто-то сказал, что, в сущности, ничего страшного не случилось. Но иной раз психотерапевт бывал мрачен, на него находил доверительный стих, и он почти шептал:

- Да будет вам известно, старина, всякая женщина превращает своего мужа в ребенка. В этом вся суть брака. Женщина мужчину укрощает, приручает, водит на помочах. Она зовет его "мой тигр", потом "мой котик" и наконец – "мой малыш"...

Соланж порой бывала рассеянна: оставляла его в примерочных кабинах, в такси. Положив его куда-нибудь – в карман халата или на край раковины, - могла начисто о нем забыть. Он ждал, немного обижался, но не всерьез.
Случалось, она машинально совала его в ящик кухонного стола вместе со штопором, бросала в мусорную корзину с ненужными письмами, а потом ночь напролет искала с фонариком.
Он был ростом с палец, и она зачастую пользовалась им, чтобы почесать ухо или спину, не отдавая себе отчета, что это ее муж. Леон порой представлял свое будущее в виде зубочистки или ватной палочки в мире Гигантов.

Итак, Леон, муж своей жены, ставший ее сыном, а затем игрушкой своих детей, должен был окончить свои дни насекомым, от которого вся семья мечтала избавиться. Печальная участь –остаться вечным скитальцем за чертой мира людей, кануть в другое измерение.
Из коридора до него доносились аппетитные запахи картофельной запеканки, телячьих отбивных, супа из кабачков, овощного рагу; у него урчало в желудке, рот наполнялся слюной, зубы выбивали дробь.
Одиночное заключение способствует обострению слуха: Леон слышал гул метро с пяти часов утра, жалобный стон открываемой двери, скрип половиц, далекое гудение лифта – так он был в курсе всего, что происходило в доме.
Когда капало из плохо завернутого крана, у него начинало стучать в ушах и разыгрывалась мигрень; бульканье в трубах означало, что домочадцы умываются; этажом ниже кто-то полоскал горло. Ритм жизни своей семьи он мог отслеживать в звуках: шаги детей, уходивших в школу, тяжелая поступь Жозианы, принимавшейся за уборку, голоса вернувшихся с работы Соланж и Дублеву, визг Батиста и Бетти, в очередной раз сцепившихся, лепет близнецов на птичьем языке.
Во всей квартире витал едва уловимый запах духов Соланж. Чуткое ухо Леона улавливало даже кое-какие звуки, доносившиеся из супружеской спальни, от которых у него все переворачивалось внутри.
В дневные часы квартира погружалась в тишину. Только он и Финтифлюшка сосуществовали на одной территории, не пересекаясь. Порой ему казалось, что кошка подходит к двери и прислушивается, словно хочет наладить контакт.

Как ни горько, пришлось признать: без него прекрасно обходились. Он вообще никому не был нужен. Жизнь продолжалась. Леон впал в глубокое уныние, бродил среди покоробившихся чемоданов, сломанных игрушек и прочего старья, которое складывали в чулане, чтобы потом отдать в пользу малоимущих. Этот бескрайний пейзаж пугал его своей хаотичностью. Глыбы штукатурки, огромные, как скалы, грозили упасть с подмокшего от протечек потолка, по стенам змеились широченные трещины.
Он был один, нагой и беззащитный, в этой ледяной пустыне. Он и сам ощущал себя отбросом – жалкий, сморщенный мешочек с костями, сохранивший только животные инстинкты.
Теперь ему были близки и понятны бродяги-попрошайки, вечные скитальцы, которых гонят отовсюду "добрые люди". Только он, наоборот, был узником в собственном доме, узником в собственном теле.

Три дня он метался в бреду, лежа среди хлопьев вековой пыли. Едва живой, всеми брошенный, он чувствовал себя низведенным до статуса одноклеточного существа.
Ему хотелось есть. Голод лишил его человеческого облика, превратил в дикого зверя.
К счастью, на дворе стояло лето, и насекомые кишмя кишели: мухи, мошки, мотыльки, пчелы, тараканы, жуки-древоточцы, червячки и личинки. Они прямо-таки сочились отовсюду, словно их плодили доски пола и штукатурка стен.

Дротиком, сделанным из шпильки для волос, Леон убивал целые колонны муравьев, штурмующих хлебную крошку. Больших зеленых мух, которые ползали по оконным стеклам, истерично гудя, как тяжелые бомбардировщики, он протыкал насквозь и еще живых, с трепещущими крылышками засовывал в рот. Охотился он и на ночных бабочек, хотя их жилистые и словно пылью припорошенные тельца жевал с отвращением, сохранив, чисто умозрительно, вкусы и привычки человека.
Стаи мошек, зависавшей в вечернем воздухе, ему хватало на два дня. В доме было, на его взгляд, маловато тараканов, хотелось побольше, и черных, и рыжих, для разнообразия.
Однажды он затеял поединок не на жизнь а на смерть со случайно залетевшей осой: сам сыграл роль приманки, натерев тело кристалликом сахара, и пронзил ее снизу, избежав смертоносного жала.
Оса умирала так долго и мучительно, что он почти пожалел о своей уловке. Из-за его роста страдания маленького существа были ему так же невыносимы, как и человеческие. А упавшего однажды утром в чулан жука-бронзовку – драгоценность, да и только, живой гранат в золоте, - он пощадил за красоту.

Борьба за выживание поглотила его целиком – в нем не осталось ничего человеческого, но в этих пещерных условиях он держался стойко. Всегда настороже, черный от грязи, руки и ноги в мозолях, волосы в колтунах – Леон и впрямь напоминал первобытного человека, с копьем и в набедренной повязке.
В бешенстве от сознания собственного бессилия, он безжалостно изматывал себя физическими упражнениями. Особенно ему полюбилось скалолазание: он смастерил из щепок, ниток и обрывков веревки настоящий альпинистский трос и научился взбираться по вертикальным стенам.
После месяца интенсивных тренировок Леон превратился в настоящую обезьянку, ловкую и подвижную; он прятался в складках занавесок и на карнизе, в лепнине потолка, за металлическими накладками старого кожаного чемодана, перелетал от вершины к вершине, этакий маленький гладиатор с оружием в руках, всегда начеку, готовый безжалостно устранить всякого, кто встанет ему поперек дороги.
А если придется погибнуть самому – он дорого продаст свою жизнь. Он вел войну на всех фронтах, со всем миром и с самим собой.

Ровно в полночь с субботы на воскресенье, когда дети ночевали у бабушки с дедушкой, боевой отряд, состоявший из Соланж и Жозианы в шлемах и марлевых масках, пошел на штурм чулана. Дублеву, вооруженный совком, прикрывал тылы в коридоре.
Две фурии с искаженными ненавистью и страхом лицами рывком распахнули дверь, светя перед собой мощным фонарем, в четыре руки сокрушили ударами молотка все, что еще было цело, и обрызгали чулан сильнейшим инсектицидом.
Операция заняла всего семь минут, после чего отряду пришлось ретироваться: дышать стало невозможно.
- Все, - сказал Дублеву, - не сомневайтесь, обмылку крышка.
Назавтра штурм на всякий случай повторили.
Но Леон, к счастью, их ждал. Слишком часто в последние несколько дней он слышал перешептывания за дверью, чтобы не встревожиться. Он разработал план бегства и затаился под куском штукатурки, очень кстати упавшим с потолка, у самой двери, под сорванной розеткой.

Этот момент он сто раз отрепетировал, зная, что у него будет всего несколько секунд. Как только Соланж и Жозиана ворвались в чулан, он юркнул в коридор, прополз на четвереньках мимо Дублеву и спрятался под складкой ковровой дорожки.
Он услышал звуки погрома, заткнул уши и едва не задохнулся от ядовитого газа. Но все же выдержал, невзирая на доносившиеся из чулана грохот, тяжелый топот двух женщин и подбадривания Дублеву.
Около половины первого они отправились спать, усталые и ошарашенные собственным зверством. В спальне Соланж поплакала, Дублеву утешал ее, повторяя: "Все, все, кошмар закончился". Леон, еле живой, выполз из-под ковра и осторожно двинулся вперед по громадному, как каньон, коридору.
Голова так кружилась, что пришлось держаться за стену. Он был голоден, поэтому инстинктивно направился в сторону кухни. Надо было хоть что-нибудь съесть, а потом хорошенько подумать. Он чудом спасся от смерти, но понимал, что это не более чем отсрочка.
Путь по квартире занял больше часа. Леон шарахался от малейшего скрипа половицы, на каждом шагу ожидая появления Соланж или Жозианы: вот сейчас гневная фурия вылетит из-за двери с тапком в руке и прихлопнет его, как муху.
Несколько раз он падал и едва не поддался искушению не вставать, забыться, умереть, но все же заставлял себя подняться. Он был так слаб, что, добравшись до огромной кухни, набросился на миску с кошачьим кормом, стоявшую у мусорного ведра. У него не хватило бы сил забраться на кухонный стол, который возвышался над ним, холодно поблескивая металлом, - там, он знал, всегда, летом и зимой, стояла ваза со свежими фруктами.
В Финтифлюшкино же меню входили слипшиеся фрикадельки с запахом тухлятины, от которых его замутило. Он пожалел, что не следил за кошачьим рационом, когда еще мог: давно следовало исключить вонючие консервы. Но делать нечего, он уписывал эту мерзость, запихивая ее в рот руками, как вдруг огромная тень, заслонив оранжевый свет уличных фонарей, накрыла его.
Леон вздрогнул, оторвался от еды (он залез в миску с ногами и ел, стоя на четвереньках), утер рот рукавом и поднял голову.


Вспыхнули два зеленоватых огня: на него смотрел, присев на задние лапы, сфинкс-исполин.
Финтифлюшка! Леон взвыл от ужаса. Она была так близко, что он чувствовал терпкий запах ее вздыбившейся шерсти. Наступила мертвая тишина.
Итак, зверюга нашла его, учуяла, подкралась неслышно. Она смотрела на него, облизываясь, за грациозно снующим вправо-влево розовым язычком белели длинные острые зубы.
Леон явственно представил, как вонзаются в него когти, еще мгновение – и она перекусит его пополам. Он был жертвой, загнанной в угол безжалостным убийцей.
Оскальзываясь в жирной массе, он вылез из миски, приосанился и с вызовом посмотрел на кошку, готовый встретить смерть стоя.
О своем копье он забыл и замахал руками в надежде испугать Финтифлюшку. Та лишь грозно зарычала и выгнула спину, глаза сверкнули, как два раскаленных уголька.
Он видел себя, жалкого вояку, в ее сузившихся зрачках. Кошка фыркнула, отпрянула, протяжно мяукнула и, подняв лапу, выпустила когти.
Это конец, понял Леон.

Но лапа, зависнув на мгновение в воздухе, опустилась на пол. Из горла кошки вырвалось хриплое урчание. До Леона не сразу дошло – Финтифлюшка мурлыкала, агрессивных намерений у нее не было и в помине. Она как будто даже сочувствовала печальной участи своего бывшего хозяина, которого жизнь заставила посягнуть на ее ужин.
И тут произошло нечто невероятное: кошка пружинисто вспрыгнула на стол, подцепила лапой персик из вазы, подтолкнула его к краю и сбросила вниз.
Персик был спелый, с подпорченным бочком, шлепнувшись на пол, он взорвался мягкой бомбой, во все стороны полетели брызги. Тут уж Леон не растерялся: набросился на персик, влез в него до самой косточки, точно шахтер, прорубающий штольню, погрузился с головой в сладкую, истекающую соком мякоть.
"Спасибо, - сказал он смотревшей на него кошке и, не успев обсохнуть, весь липкий, спросил: - Ну-с, а где я буду спать?"
Финтифлюшка тихонько мяукнула, словно все понимая, и отвела его в ванную, где стояла ее корзинка. Он залез внутрь, спрятался под облепленным кошачьей шерстью тряпьем и задремал, сытый, уверенный, что Провидение на его стороне и убережет его в будущем от всех невзгод.

Леон взбунтовался. За одну ночь он отринул все перенесенные муки, все унижения. Кошка спасла ему жизнь; он спас жизнь синичке. Пора было спасаться самому. Как он мог так долго терпеть притеснения и не роптать?
Вчера он преодолел себя – что ему мешает делать это каждый день?
Иной раз стоит оказаться на волосок от смерти, чтобы вновь обрести вкус к жизни. Неужели он будет сидеть и дожидаться возвращения своих мучителей, чтобы дать себя уничтожить, соскрести, как грязь со стены, только потому, что они – его семья?
Он забрался на туалетный столик Соланж и посмотрелся в зеркало. Собственный вид его ужаснул: грязный, обросший, нечесаный, в лохмотьях – пещерный человек, да и только. Вдобавок голова и руки сплошь покрыты коростой. Какая мерзость – не то мерзко, что он уменьшился, а то, что так себя запустил.
Это была настоящая революция, буря в душе маленького человечка. Волна возмущения захлестнула его. Как он мог быть таким слабаком, таким трусом? Леон клял себя, ругал последними словами, даже бил по щекам.
К полудню он принял решение. Собрал свои вещи, уложил их в заплечный мешок и стал ждать консьержку, которая каждый вечер приходила кормить кошку. Как только в замке повернулся ключ и входная дверь открылась, он юркнул на лестницу.
Бегство – лучшая месть.
Свободен, наконец-то он свободен!
И не важно, какие беды и невзгоды ждут его впереди, главное – теперь он сам себе хозяин.

Он начал осторожно спускаться по лестнице. Каждая ступенька была выше его, приходилось прыгать, приземляться на ковровую дорожку, идти к краю и снова прыгать.
Это были перпендикулярно расположенные утесы равной высоты с отвесными склонами. Дорожка крепилась к ним золочеными металлическими прутьями. В любой момент Леон мог сорваться, пересчитать все ступеньки и переломать кости.
Когда остался позади пятый этаж, почему-то стало легче, и он с удивлением понял, что скачет со ступеньки на ступеньку без усилий, почти как в лучшие времена.
На четвертом этаже он обнаружил перемены: окно лестничной клетки, витраж в символистском стиле конца девятнадцатого века, вернулось на привычный уровень, потолок приблизился, а лифт уже не казался огромным. И теперь, стоя на ступеньке, он доставал ногой следующую.
Что же произошло?
Просто-напросто чудо.

Чудо располагается по ту сторону беды; чудо вознаграждает страдальцев, тогда как беда не разбирает, кто прав, кто виноват.
Вот какое произошло чудо: удаляясь от семейного очага, ЛЕОН НАЧАЛ РАСТИ. И вместе с ним росла его одежда! Спуститься, как выяснилось, для него значило подняться – и главное, подняться в собственных глазах. На долю Леона уже выпало столько напастей и диковинных чудес, что он не слишком удивился этому феномену.
На втором этаже – спускаться было с каждым пролетом все легче - Леон убедился, что вновь обрел свое прежнее тело. Он ощупал свою голову, поднял руки, посмотрел на ноги, вдруг оказавшиеся далеко-далеко внизу, - у него даже голова закружилась. И все это держалось, он не рассыпался, как слишком высокий домик из кубиков под действием земного притяжения. Он снова стал тем же человеком, что восемь лет назад, - ростом метр шестьдесят шесть.
И надо было всего-то навсего уйти из семьи!

Через несколько минут Леон был в сквере напротив дома – подумать только, больше полугода он не выходил на воздух! Он покачнулся, зажмурившись от света, и едва не задохнулся.
К новому телу еще надо было привыкнуть: шел он неуверенной походкой, плохо ориентировался – все казалось ему то дальше, то ближе, чем на самом деле.
Он без сил опустился на скамейку, обхватил голову руками и заплакал, как малое дитя; прохожие таращили на него глаза, гулявшие с няньками дети показывали пальцами - ему было все равно. И то сказать, многовато испытаний выпало его нервам.
Это были слезы, счастливые и горькие одновременно, они ознаменовали прощание с целым этапом и готовность к новой жизни.
Утирая глаза, он заметил, что прямо перед ним скачет птичка. Сломанное левое крыло висело, мешая ей двигаться, и все же пичуга не унывала, весело щебетала песенку на двух нотах, немудреную, но мелодичную. Леон узнал ее по черной шапочке – это была та самая синичка, которую он спас из когтей вороны. Она еще нуждалась в его помощи. Он вытянул указательный палец и, потихоньку сгибая его, посадил ее себе на ладонь. Птичка доверчиво чирикнула.

Славная получилась парочка – оборванец и калека.
Леон пощупал конверт в кармане. Денег у него достаточно, хватит подлечить синичку у ветеринара, купить себе новый костюм и чистое белье, снять номер в гостинице. Да, нужно срочно привести себя в порядок, пока его не арестовали за бродяжничество.
У него остались его дипломы и знания, он вернется к своей профессии, а свое отсутствие уж как-нибудь объяснит, измыслит причину. Скажет, например, что временно уменьшился. Никто ему не поверит.

За своими детьми он будет присматривать издали.
Непременно на днях вернется сюда и заберет кошку.
А напасть никогда больше не повторится.
Леон шел по улицам Парижа со щебечущей птахой на плече, она теребила ниточки его обтрепанного пиджака и что-то упоенно чирикала на своем языке.
При мысли об оставшихся позади невзгодах и будущих радостях Леон приободрился.
На свете есть множество восхитительных женщин от метра пятидесяти до метра шестидесяти пяти.
Он останется мужчиной среднего роста.
Никогда больше он не будет маленьким мужем.
Перевод Нины Хотинской.
Источник:
Паскаль Брюкнер "Мой маленький муж" -
- М.: "Текст", 2009.
Сайт издательства: TextPubl.Ru
Иллюстрации Ларисы д'Аль.
 Другие материалы выпуска >>>
Другие материалы выпуска >>>
 Архив>>>
Архив>>>
 Переводчик "ПРОМТ">>>
Переводчик "ПРОМТ">>>
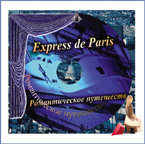


|