
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА
Отрывки из романа
Жана-Мари Леклезио


Сен-Мартен-Везюби, лето 1943
Она слышала шум воды и знала, что зиме пришел конец. Зима — это когда деревня стояла, окутанная снегом, белыми были крыши домов и луга, и длинные сосульки свисали отовсюду. Потом припекало солнце, и со всех крыш и балок, с каждого дерева начинало капать; капли, сливаясь, текли ручейками, ручейки стекались в большие ручьи, и вода бежала, весело журча, по всем улицам деревни.
Наверно, этот шум был самым давним ее воспоминанием. Она помнила первую зиму в горах и весеннюю музыку воды. Когда это было? Она шла по улице деревни между отцом и матерью, держа их за руки. Одну руку приходилось поднимать выше, чем другую: отец был такой большой. И вода текла со всех сторон, звуча этой музыкой, шелестя, пришепетывая, барабаня. Всякий раз, когда она это вспоминала, ей хотелось рассмеяться, потому что звуки те, нежные и чуть щекотные, были точно ласка. Она и тогда смеялась, идя между отцом и матерью, а вода в ручьях и водостоках вторила ей, журчала, звенела…
А теперь, в летний зной, под ярко синеющим небосводом, ее всю наполняло счастье, такое огромное, что было почти страшно. Больше всего она любила высокий зеленый склон, который, начинаясь за деревней, поднимался прямо в небо. На самую вершину она не забиралась, говорили, что там водятся змеи.
Ей достаточно было пройти немного по краю луга, чтобы почувствовать ногами прохладу земли и острые травинки губами. Кое-где трава была такая высокая, что она могла спрятаться в ней с головой. Ей было тринадцать, и звали ее Элен Грев, но отец называл иначе: Эстер.
Эстер была самой дикой из всех, дочерна загорелая, с коротко остриженными черными кудряшками. "Элен, ты как есть цыганка", — говорила ей мать, когда она прибегала домой поесть. А отцу это нравилось, и он называл ее по-испански: "Эстреллита, звездочка".
Это он впервые показал ей зеленые поля за деревней, на склоне над бурной речкой. Чуть подальше начиналась дорога в горы, лес, темные ели и лиственницы — но это был уже другой мир. Гаспарини говорил, что в лесу водятся волки и, если прислушаться зимней ночью, слышно, как они воют вдалеке. Но сколько ни прислушивалась Эстер ночами, лежа в кровати, она так никогда и не услышала воя, наверно, все из-за того же шума воды, которая все бежала, журча, в ручье-канавке посередине улицы.


В тот день было жарко, и вся деревня, казалось, спала, когда Эстер направилась к дому господина Ферна. В его саду росла большая шелковица. Эстер взобралась на ограду, цепляясь за прутья и прячась в тени дерева. В окне кухни она увидела силуэт господина Ферна, склонившегося над пианино. Клавиши из слоновой кости поблескивали в полумраке. Ноты падали каплями, на миг замирали и вновь текли, словно у них был свой тайный язык, словно и сам господин Ферн не знал, с чего начать. Эстер смотрела в окно изо всех сил, так смотрела, что глаза заболели.
И вот тут-то музыка взаправду началась, хлынула из пианино, наполнила весь дом, сад, улицу, а потом вдруг стала нежной и загадочной. Теперь она летела, разливаясь, как вода в ручьях, прямо к облакам, к центру неба и смешивалась со светом. Она неслась по всем горам, долетала до истоков двух горных рек и сама была сильна, как река.
Сжимая прутья ржавой ограды, Эстер слушала, как господин Ферн говорит на своем языке. Это было совсем не то, что в школе. Он рассказывал диковинные истории, что-то такое, чего она не могла вспомнить, как будто давние сны. В его рассказах они были свободны, и не было войны, не было ни немцев, ни итальянцев, и никто не боялся, что вдруг оборвется жизнь. Но это было и немного грустно, музыка замедлялась, словно вопрошала.А потом все внезапно рушилось, разбивалось. И наступала тишина.

Итальянцы все-таки забрали пианино господина Ферна, унесли однажды, ранним дождливым утром. Весть об этом неведомо как разнеслась быстро. Сбежались дети со всей деревни, пришли и старухи в передниках, и евреи, облачившиеся по-зимнему в свои лапсердаки из-за дождя. И вот чудо-инструмент, большой, черный и блестящий, с медными подсвечниками в виде чертиков, медленно поплыл вверх по улице — его несли четверо итальянских солдат в форме.
Эстер тоже смотрела на эту странную процессию: пианино подрагивало и покачивалось на каждом шагу, точно огромный гроб, и вместе с ним колыхались черные перья на форменных шапках. Несколько раз солдаты останавливались передохнуть, и, когда они ставили пианино на мостовую, оно отзывалось долгим содроганием струн, похожим на жалобный стон.
Пианино скрылось в конце улицы, уплыло в сторону гостиницы "Терминал". Господин Ферн прошел мимо, его белое лицо подергивалось, странно гримасничая, то ли от огорчения, то ли от дождя. Дрожала и серая бородка, как будто он говорил сам с собой, а может, проклинал итальянских солдат на своем языке. Это было смешно и грустно одновременно, и у Эстер сжалось горло, потому что она вдруг поняла, что такое война.
Война — это когда какие-то люди, полицейские и солдаты в смешных шапках с петушиными перьями, могут запросто вынести пианино из дома господина Ферна и забрать его себе, в обеденный зал гостиницы "Терминал". А ведь это пианино господину Ферну было дороже всего на свете, только оно у него в жизни и осталось.

На пианино господина Ферна стоял граммофон, крутилась пластинка, звучала мазурка, медленная и гнусавая. На площади кружились женщины, их раскрасневшиеся лица блестели на солнце. Эстер шла мимо них, мимо парней, карабинеров, она подходила к дверям гостиницы.
Солнце стояло уже низко, оно светило прямо в окна большого зала, открытые в сад. Эстер было больно смотреть на свет, голова кружилась. Может быть, из-за слов отца, что скоро всему придет конец.
Войдя в зал, Эстер почувствовала облегчение. Только сердце продолжало гулко стучать в груди. Она увидела Рашель. Та была среди солдат с перьями, в центре зала — столы и стулья сдвинули к стенам, — и кружилась в танце с Мондолони. В зале были еще женщины, но танцевала одна Рашель.
Остальные смотрели, как она кружится, ее светлое платье раздувалось, открывая тонкие ноги, обнаженная рука невесомо лежала на плече партнера. Карабинеры и солдаты то и дело заслоняли ее, и Эстер приходилось вставать на цыпочки. Голоса ее она не слышала из-за музыки, но время от времени, казалось, различала то возглас, то смех.
Никогда Рашель не казалась ей такой красивой. Должно быть, она уже хлебнула лишнего, но, видно, была из тех, кому выпивка нипочем. Только не очень твердо держалась на ногах и все равно кружилась и кружилась под звуки мазурки, и длинные темно-рыжие волосы метались по спине.
Эстер пыталась поймать ее взгляд, но тщетно. Матово-бледное лицо Рашели было запрокинуто, она унеслась куда-то далеко-далеко, подхваченная вихрем музыки и танца.
Люди притворялись, будто им и дела нет, но все они думали о Рашели и ненавидели ее даже сильнее, чем итальянских солдат. А музыка все играла, гнусавые звуки граммофона, ритмы польки на пианино господина Ферна, хрипловатый голос кларнета, перемешиваясь, плыли в воздухе.


Сквозь траву, на полосе песка и гальки у реки, Эстер увидела нечто не совсем ей понятное. Она не могла оторвать взгляд от этого зрелища, до того оно было странное. Нечто походило на толстую веревку, сплетенную из двух коротких витых шнурков цвета осенней листвы, и блестело на солнце так, словно только что побывало в воде.
Вдруг Эстер вздрогнула: веревка шевелилась!
Две гадюки, переплетясь, извивались на песке, и Эстер смотрела на них сквозь траву, охваченная ужасом. Вдруг из живого клубка высунулись две маленькие, приплюснутые головки, она увидела их глаза с вертикальными зрачками, раскрытые пасти.
Гадюки, казалось, срослись телами и пристально смотрели друг на дружку, точно в экстазе. Потом снова начали извиваться, скользя по песку между камнями, медленно свиваясь в кольца; клубок постепенно расплетался, оседая вниз, хвосты хлестали воздух, точно плети. Они продолжали извиваться, и, несмотря на шум реки, Эстер, кажется, слышала, как трутся друг о друга чешуйки на их коже.
"Они дерутся?" — спросила она шепотом. Марио тоже смотрел на гадюк. Все его широкое лицо, казалось, сосредоточилось во взгляде, в узких, разрезом смахивающих на змеиные, глазах. Обернувшись к Эстер, он сказал: "Нет, у них любовь".
Эстер с удвоенным интересом уставилась на гадюк, которые извивались между камнями, вовсе не замечая их присутствия. Это продолжалось долго, очень долго, змеи то замирали, лежа на песке, холодные и неподвижные, как две сломанные ветки, то вдруг вздрагивали и начинали биться, переплетясь так тесно, что не было видно головок.
Наконец они распались, унявшись, головками в разные стороны. Эстер отчетливо видела застывший зрачок, похожий на бойницу; дыхание вздымало змеиные бока, и чешуя поблескивала на солнце. Медленно-медленно одна гадюка выпуталась из клубка и, скользнув в сторону, скрылась в густой траве.
Когда вторая поползла тоже, Марио засвистел своим странным свистом сквозь зубы, почти не разжимая губ, тоненько, тихо, почти неслышно. Змея приподнялась из травы и уставилась на стоявших перед ней Марио и Эстер. Под ее взглядом у Эстер ёкнуло сердце. Гадюка чуть помедлила, широкая головка замерла под прямым углом к приподнятому телу. Еще миг — и она тоже, скользнув в траву, скрылась из виду.

Эстер сидела на вершине утеса, свесив ноги. Она смотрела на Тристана без всякого стеснения. Ее тело было длинным и мускулистым, как у мальчика, но легкой нежной тенью, неуловимым трепетом уже намечались груди. Шум падающей воды наполнял узкую долину снизу доверху, до самого неба. Ни души вокруг, словно здесь, в ущелье, они были одни на целом свете.
Впервые в жизни Тристан ощутил свободу. От этого чувства все в нем звенело, и казалось, будто весь мир исчез, остался только этот сумрачный утес, маленький островок над бурной рекой. Тристан забыл о площади, где фигуры в черном стояли под дождем в очереди к гостинице "Терминал". Забыл о матери, о ее тревожном и грустном лице, когда она ходила продавать ювелирам свои грошовые украшения, чтобы купить молока, мяса и картошки.
Эстер полулежала на гладком камне, опершись на локти, глаза ее были закрыты. Тристан смотрел на нее, не смея приблизиться, не смея коснуться губами блестевших на солнце плеч, выпить еще не высохшие на них капельки воды. Он хотел забыть сальные взгляды парней, злые слова девушек на площади, когда речь заходила о Рашели.

Сердце отчаянно билось в груди, и Тристан чувствовал, как разливается в крови жар, словно весь солнечный свет, который вобрали в себя эти черные камни, проникал теперь в их тела. Тристан взял Эстер за руку и вдруг, сам не понимая, как у него хватило смелости, коснулся губами ее губ. Эстер сначала повернула к нему лицо, потом, с неожиданной яростной силой, впилась в его губы поцелуем.
Такое с ней было впервые в жизни; зажмурившись, она целовала его, втягивая в себя его дыхание и заглушая слова, так, словно весь ее страх растворился в этом поцелуе, и не было больше ничего, ни раньше, ни потом, только это ощущение, такое сладкое и жгучее одновременно, только вкус их смешавшейся слюны, соприкосновение языков, стук зубов друг о друга, частое дыхание и биение сердец.
Солнечный вихрь подхватил их. Холодная вода и свет пьянили почти до дурноты. Эстер оттолкнула лицо Тристана и откинулась на камень. Не открывая глаз, она спросила: "Ты никогда меня не бросишь?" — хриплым, полным муки голосом. "Я тебе теперь как сестра, ты никому не расскажешь?" Тристан не понимал, о чем она. "Я тебя никогда не брошу". Он сказал это так серьезно, что Эстер рассмеялась.
Она запустила руку в его волосы, притянула его голову к своей груди: "Послушай мое сердце". И замерла, опершись спиной о гладкий камень, подставив лицо с закрытыми глазами солнцу. Тристан чувствовал ухом кожу Эстер, нежную и горячую, точно в жару, слушал глухой стук ее сердца, видел синее-синее небо и как будто издали слышал шум воды, бурлившей вокруг их островка.


Назавтра послышалась музыка, она звучала пониже площади, на вилле в саду с шелковицей. Эстер побежала туда со всех ног. Несколько женщин стояли, прислушиваясь у ограды, и дети там тоже были. Эстер вскарабкалась, цепляясь за прутья решетки, на свое привычное место в тени дерева и увидела господина Ферна: он сидел в кухне за своим черным пианино.
"Они принесли его назад! Вернули господину Ферну пианино!" — хотелось Эстер крикнуть стоявшим внизу людям. Но в этом не было необходимости. На всех лицах было одно и то же выражение. Все больше народу собиралось у ограды послушать игру господина Ферна. И то сказать, никогда еще он так не играл.
Через приоткрытую дверь из полутемной кухни выпархивали ноты, взмывали в легком воздухе, наполняя всю улицу, всю деревню. Пианино, слишком долго молчавшее, казалось, играло само. Музыка лилась, летела, сияла. На ограде в тени шелковицы
Эстер, почти не дыша, слушала стремительные ноты, музыкой была полна ее грудь, все ее тело. И люди зааплодировали — сначала несколько мужчин и женщин, которые стояли поближе, а потом остальные, даже дети захлопали в ладоши и закричали "браво!". И Эстер тоже аплодировала и думала, что все точь-в-точь как было в Вене, когда Генрих Ферн играл перед господами во фраках и дамами в вечерних платьях в пору своей молодости.

Вокруг Якова суетились женщины, устанавливали пюпитр, приносили воду, расставляли золоченые подсвечники. Вдруг где-то засиял свет, и все взгляды обратились в ту сторону.
Словно звезды вспыхивали свечи одна за другой, сначала слабо мерцающие, готовые вот-вот погаснуть, но мало-помалу язычки пламени разгорались, отбрасывая длинные лучи. Женщины со свечами в руках переходили от светильника к светильнику, и света становилось все больше.
Вокруг Эстер девушки и девочки, обратив лица к огням, повторяли непонятные слова и раскачивались взад-вперед. От запаха оплывших свечей, смешавшегося с запахом пота, от ритмичного пения кружилась голова.
Эстер не смела шевельнуться, но, сама того не сознавая, тоже начала раскачиваться взад-вперед, в такт окружающим женщинам. Она пыталась прочесть по их губам слова незнакомого, такого красивого языка, который отзывался в самой глубине ее существа, словно каждый слог будил воспоминания.
Дурнота накатывала на нее в этой пещере, полной тайн, когда она смотрела на огоньки свечей, звездами сиявшие в сумраке. Никогда она не видела такого света, никогда не слышала подобного пения. Голоса взмывали, набирая силу, затихали, звучали вновь в другом конце зала.
Иной раз чистый женский голос один выводил длинную фразу, Эстер смотрела в ту сторону, на закутанную в покрывало фигуру, которая раскачивалась сильней и, раскинув руки, вся подавалась к свету. Когда она умолкала, слышалось глухое бормотание зала: аминь, аминь.
Потом откуда-то откликался мужской голос, и вновь звучали непонятные слова, похожие на музыку. Впервые в жизни Эстер поняла, что такое молитва. Она не знала, как это вошло в нее, откуда, но в ней крепла уверенность: это и глухой гул голосов, вдруг завораживающий незнакомым языком, и мерное раскачивание тел, и свечи, сияющие звездами в теплом и полном запахов сумраке. Это подхватывающий вихрь слов.

Порт Алон, декабрь, 1947 год
Черные города, поезда, перроны, страх, война — все осталось позади. Когда мы шли прошлой ночью через холмы, под дождем, при слабом свете электрического фонарика — мы переступали первый порог. Вот почему было так трудно, так тяжело. Лес гигантских сосен в Алонской бухте, шум ветра и хруст ветвей, холод, ливень и, наконец, — эта полуразрушенная стена, под которой мы притулились, точно заплутавшие в бурю животные.
Я открываю глаза, море и свет прожигают до самого нутра, но мне это нравится. Я дышу, я свободна. Меня уже подхватывает ветер, несут волны. Путь начался.
Что, если я исчезла навсегда, здесь, между водой и небом, высоко в моей щели, в моем птичьем гнезде среди скал, с прикованным к морю взглядом? Мое сердце бьется ровно, медленно, я не чувствую больше страха, не чувствую ни голода, ни жажды, ни бремени будущего. Я свободна, я вобрала в себя свободу ветра и света. Впервые в жизни.


Монреаль, улица Нотр-Дам, зима 1966
Я смотрю в закрытое балконное окно на замершую улицу. Небо такое белое, такое высокое, словно мы находимся в самых верхних слоях атмосферы. Мостовая в снегу. Змеятся по ней следы шин, темнеют отпечатки чьих-то ног. Перед моим домом маленький сквер, деревья ощетинились голыми ветвями, грозя бледному небу. Газоны еще совсем белые. Только вороны оставили на них свои следы.
По обеим сторонам улицы стоят большие выгнутые фонари. Ночью они проливают лужицы желтого света. Вдоль заснеженных тротуаров припаркованы машины. Некоторые не двигались с места уже много дней, их крыши и стекла покрыты смерзшимся снегом.
Как трудно возвращаться назад. Я всматриваюсь в улицу до боли в глазах, чтобы запомнить каждую мелочь. Я прильнула к стеклу вплотную, ощущаю лбом его холод, и два запотевших кружка расплылись на нем от моего дыхания. Эта улица не кончается. Она уходит в бесконечность голых деревьев и кирпичных домов, прямо к бледному небу. Кажется, можно просто сесть на любой автобус, чтобы уехать туда, где по ту сторону океана живет Элизабет, моя мама.
Теперь, когда я уезжаю отсюда, мне почему-то видится лицо Тристана, нежное, еще детское, такое, каким я видела его в сумрачной тени под каштанами, в Сен-Мартене, в тот день, когда мы отправились в долгий путь через горы. Чуть больше года назад я узнала, что Тристан живет в этой стране. Работает, кажется, в Торонто, то ли на каком-то предприятии, то ли в гостиничном бизнесе, я толком не поняла. Филип от кого-то слышал о нем, я получила номер телефона, нацарапанный на спичечном коробке.
Думала позвонить, потом потеряла номер да и забыла. И вот теперь, уезжая, я вижу его лицо, но оно из моей жизни по ту сторону, лицо подростка, который раздражал меня тем, что, куда бы я ни шла, постоянно попадался на моем пути, и я налетала на него с обвинениями, что онде за мной шпионит. Мне хочется увидеть не сорокалетнего мужчину, поседевшего и потолстевшего, занятого своими делами в Торонто.
Нет, не его, а мальчишку из Сен-Мартена той поры, когда еще ничего не изменилось в нашем мире и все казалось возможным, хоть вокруг и бушевала война. Тогда еще был отец, он стоял в дверях, и Тристан с серьезным видом пожимал ему руку. Или в ущелье, в шелесте горной речки, Тристан, прильнувший ухом к моей голой груди, слушал стук моего сердца, словно не было ничего важнее на свете. Как могло все это кануть?

Ницца, лето 1982, отель Одиночества
На террасах кафе сидели туристы — немцы, итальянцы, американцы, аргентинцы, арабы. Все громко, ох как громко разговаривали, женщины сильно пахли духами. Тут были опасливо озирающиеся парочки геев, няньки с детьми, моряки из Греции, с Кипра, из Советского Союза.
Были клошары из Сен-Жермен-де-Пре, студенты с бульвара Сен-Мишель, разносчики пиццы, жиголо и сутенеры. Были менялы, пенсионеры, киношники, отрешенные девушки с вытравленными волосами и подростки, до беспамятства накачанные наркотиками. Были докрасна обгоревшие голландские курортники, и кабильские работяги, и старики ветераны, и парикмахеры, послы, автомеханики, министры, да мало ли кто еще?
Я видела этот мирок, я его не знала. Я не узнавала его. Все эти люди сновали туда-сюда, встречались, останавливались, разговаривали, толпа текла, как густой осадок по желобку. И шаги, так много шагов, и гул голосов, перекрывающий шум моторов. Люди, каждый в своей непроницаемой скорлупе, их взгляды, жесткие, равнодушные, похожие на отражения.
Я ходила по холму Симиез, по парку, по тихим, блестящим от солнца улочкам, в запахе кипарисов и питтоспорума. Кошки перебегали дорогу между машинами, нахальные дрозды никого не боялись. На крышах вилл пританцовывали горлицы. Запах гари рассеялся, и небо было ясное.
Что я искала, что хотела увидеть — не знаю. Словно рана ныла в сердце, я хотела увидеть воочию зло, понять то, что не поддавалось моему разумению, что выбросило меня в другой мир. Мне казалось, если я отыщу следы того зла, то смогу наконец уехать, забыть, начать новую жизнь с Мишелем, с Филипом, с теми, кого я люблю. Смогу колесить по свету, разговаривать с людьми, видеть новые края и новые лица, жить в настоящем времени. Времени у меня мало. Если я не найду, где кроется зло, то свою жизнь и свою правду потеряю. Я так и буду блуждать.

Я долго искала ту гостиницу, таинственную, пугающую, к которой мы с отцом и мамой каждый день стояли в очереди, чтобы отметиться в списках карабинеров. Ту самую, где Рашель танцевала со своим итальянским офицером и куда карабинеры забрали пианино господина Ферна. Я не сразу узнала ее в скромном двухзвездном отеле с рекламными зонтиками и смешными мещанскими занавесочками на окнах. Даже дом господина Ферна, такой странный и заброшенный, где он играл сам себе на черном пианино венгерские вальсы, теперь тоже перестроен и сдается отдыхающим. Но я узнала старую шелковицу.

Привстав на цыпочки, сорвала листок — широкий, кружевной по краям, темно-зеленый. Я прошла от деревни вниз, до поворота, откуда видны река и сумрачное ущелье, где мы купались в нашем тайном месте, и, как наяву, ощутила гусиную кожу от ледяной воды и жаркого солнца, услышала гудение ос и почувствовала на груди прикосновение гладкой щеки Тристана, который слушал стук моего сердца. Лежат ли еще здесь гадюки, сплетясь в любовных битвах? Умеет ли еще кто-нибудь звать их, как Марио, тихим свистом сквозь зубы?
Все кружится вокруг меня, я чувствую себя единственной живой душой, последней женщиной, уцелевшей в войнах. Мне кажется теперь, что город света, который так хотел увидеть мой отец, — он там, наверху этого зеленого склона, там все его небесные купола, все минареты, связывающие земной мир с заоблачным.
Перевод Нины Хотинской и Елены Клоковой.
Источник:
Жан-Мари Гюстав Леклезио "БЛУЖДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА".
– М.: "Текст", 2010.
Сайт издательства: TextPbl.Ru
 Другие материалы выпуска >>>
Другие материалы выпуска >>>
 Архив>>>
Архив>>>
 Переводчик "ПРОМТ">>>
Переводчик "ПРОМТ">>>
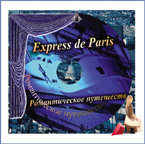


|