

ОСВЕЖИТЕ МЕНЯ ЯБЛОКАМИ...

Не плачь, Нинель!
На юге лето состоит из цветов, плодов, рыб и звезд. Цветы начинаются в апреле и цветут до сентября все ярче, все пышнее. Через клубнику и фиалки дело идет к персикам и левкоям, и все кончается виноградом и георгинами. Рыбы плывут все лето вдоль берегов, а звезд так много, что им становится тесно в небе и они падают оттуда дождем. На юге смысл жизни так понятен.
Все неясности, все голубоватые туманцы, капельные сомнения, ручейковые нашептывания, болотная луна в дымке из комаров, повисшая между двух берез и пахнущая сыростью и медом, — все это север, северные тревоги, северное лето.
Южные дети выросли у моря под яркой драгоценной луной. Они знают, что летом ловится рыба, а зимой идет дождь. Они знают, что летом темные ночи и светлые дни, что летом должно быть жарко. Они знают... они ничего не знают.
Двое детей, мальчик Арлен и девочка Нинель, приезжают летом на север. Прямо с вокзала, сонных, их везут на дачу, где дома из дерева проконопачены мохом и где сосны окружают дом. Всю ночь дети спят и видят южные сны.

Арлен видит небольшую бухту, лучезарный песок и площадку, которую они с Нинель построили из камней перед отъездом и где поселили двух крабов. Каменная площадка, выстроенная перед отъездом для крабов, приобретает во сне иной вид, чем наяву. Сновидение украсило ее и превратило в подводный спортивный клуб, полный музыки, где крабы в трусиках смыкаются в треугольники и квадраты и, наконец, образуют пирамиду, на вершине которой укреплена морская звезда.
Нинель видит во сне ту же площадку у моря, но тоже преображенную. Это сад, или, вернее, ясли, для юных крабов. Целые стада их плещутся в теплой воде под присмотром старого умного окуня в пенсне, покуда проворные скумбрии в полосатых джемперах приготовляют завтрак.
Южные дети видят во сне определенные, простые вещи, то, что они хорошо знают. Но уже утром начинаются непонятности.
Утром их приветствуют деревянные стены, проконопаченные мохом, и сосны в окне. Дети смущены: у них на юге нет таких домов и таких деревьев.
— Какой странный дом, — говорит Нинель. — Весь деревянный, как ящик.
Арлен исследует диковинные стены.
— Это редкий дом, — убежденно говорит он. — Второго такого нет нигде, он сделан специально для нас.
Через полчаса он убеждается, что таких домов сколько угодно.

В сандалиях на босу ногу, с голыми руками и грудью, дети выходят на террасу.
— Где здесь у вас море? — деловито спрашивает Арлен.
Моря нет. Одновременно с этим еще одно открытие: холод. Большая мохнатая туча ползет, цепляясь за вершины сосен, ветер сыр и неласков. И кожа детей, привыкшая к южному солнцу, пупырится. Дети дрожат.
— Когда у вас будет лето, — вежливо говорит Нинель, — мы покажем вам разные игры.
Но южные игры не годятся для севера; кроме того, лето уже наступило. Все по-другому в этом северном крае.

Арлен и Нинель гуляют, кутаясь в осенние пальто.
Они уже изменились, эти южные дети. Они уже забыли о рыбах и думают о грибах, которых пока еще нет, но которые будут. Южный загар сошел с них. Они потеряли южную самоуверенность, они узнали, что лето может быть холодным, ночи светлыми, дни темными; они узнали, что климат и формы жизни многообразны. Арлен и Нинель прошли уже несколько стадий северного развития.
Сначала они ничему не удивлялись, рассматривая все чужое как чудачество и заранее зная, что все самое лучшее у них дома. Потом они начали удивляться чужому, не уважая его. Теперь они уважают чужое и стараются понять его: так расширяются их горизонты.
Они внимательно слушают разговоры взрослых и, оставшись одни, обсуждают их.
— Никто так не понял природу женщины, как Кнут Гамсун, — сказала однажды старая незамужняя тетушка.
Вечером Нинель спрашивает Арлена, который все знает:
— Ты слышал... она сказала: "кнут Гамсун". Разве у кнутов тоже бывают фамилии?
— Я не слыхал об этом раньше, — честно отвечает Арлен. — У нас дома они без фамилий, но здесь...

Между тем лето идет и идет. Оно настолько холодно, что это удивительно даже для севера. Дожди идут помногу раз в день, дожди разных калибров и разных степеней холода. Ночи холодны, цветов и звезд очень мало, фрукты очень дороги. "Земная ось перемещается", — говорят взрослые. Дети слушают, и постепенно эта ось заполняет их воображение. Они часто умолкают и что-то слушают.
— Тс, тише, — шепотом говорит Арлен.— Вот сейчас, вот слышишь.
— Да, как будто, — не вполне уверенно соглашается Нинель.
Это они слушают скрип земной оси, которая перемещается.
Арлен рассказывает Нинель поразительные вещи про эту ось.
— Она перемещается ночью, когда все спят, — рассказывает он. — Вся земля наклоняется, и моря выливаются. Все эти дожди — это моря, которые падают обратно на землю.
На другое утро Нинель пробует на язык дождевую каплю.
— Она вовсе не соленая! — восклицает она. — Это ты все наврал.
Но Арлен сдается не так скоро. На другой день они находят на лужайке невиданный цветок.
— Ты видишь этот цветок? — говорит Арлен. — Так вот, ему здесь совсем не место. Это южный цветок.
— Как же он попал сюда?
— Ты, значит, забыла про земную ось. Вся земля передвинулась, и семена цветов вместе с ней. Это цветок другого полушария.

Однажды ночью Арлен просыпается оттого, что Нинель не спит. Она действительно не спит. Сидя на кровати, она пишет письмо начальнику будущей полярной экспедиции, Фритьофу Нансену.
— Что ты там пишешь? — спрашивает Арлен. Он подходит и читает письмо. — Ты, ты хочешь лететь на Северный полюс? Женщин туда не берут, это раз. И потом — что ты там будешь делать?
— Если ось перемещается, — отвечает Нинель, — ее необходимо исправить, иначе этому конца не будет. А это можно сделать только на полюсе, там, где она выходит наружу. Теперь ты понимаешь, почему этот Нобиле все летал туда: он боялся, что в Италии тоже наступят холода. Но конечно, один он ничего не сделал. Ось должны починить организованно.
— Ну а ты тут при чем?
— Я буду помогать им строить палатку. Теперь женщина — как мужчина, она может все. Вот прочти, я прямо пишу ему: "Рассчитывайте на меня".


В один из дней, как было обещано, Нинель везут в город, в Зоопарк. Арлен остается дома: он простужен, у него начинается свинка. Вообще, ему не везет, бедному Арлену, и он совершенно неприспособлен для северных экспедиций.
— Ты расскажешь мне про льва? — спрашивает он, мужественно сдерживая слезы.
— Я расскажу тебе про льва, и это даже лучше, чем самому увидеть. Потому что самому надо ходить, а когда начинают болеть ноги, то уже не хочется смотреть.
Нинель говорит, но она сама в это не верит. Просто великодушие подсказывает ей эти слова, великодушие и жалость сильной, здоровой женщины к слабому, болезненному мужчине. Она уезжает, полная благодушия, спокойствия и твердости. Арлен ждет ее весь день.
Она приезжает поздно, очень смутная, очень молчаливая. Арлен сгорает от жажды все услышать.
— Ну, расскажи, — дергает он ее за рукав. — Ну что? Ну как? Кого ты видела: жирафу, тигра? Какой величины слон? Правда ли, что кенгуру носит своих детей в кармане? Почему же ты молчишь? А лев? Видала ли ты льва? Ну что, как он?
Нинель молчит, потом отвечает неохотно и коротко:
— Видела льва. Совсем не похож.
И, сказав это, она горько плачет.
Она плачет потому, что испытала тревогу, связанную с познаванием истинной природы вещей.
Не плачь, Нинель! Земная ось переместится еще не однажды. Жизнь твоя только еще начинается.
Не плачь, Нинель!
1928

Мой друг Давид
Среди немалочисленных моих друзей одно из видных мест занимает мой друг Давид. Мне думается, о нем стоит написать.
Это отличный человек. Мы познакомились с ним два года тому назад, когда он был еще очень, очень молод. Уже тогда намечался его характер. Придя ко мне в гости, он упал, бегая вокруг стола.
— Почему в этом доме не смотрят за детьми! — возмущенно закричал он и долго не мог успокоиться.
Прошло много времени, пока мы разговорились.
— Меня зовут Давид,— сказал он.
— Я это знаю,— ответила я.
— Но ты не знаешь, какой я Давид. Ты думаешь, я какой Давид?
— Думаю, что обыкновенный.
— Нет, я по имени французского художника. Его фамилия — это мое имя. Я и рисовать умею. Я рисую и потом пишу на это стихи.
И он прочел мне четверостишие, сочиненное им накануне:
Все собаки маленькие
Надевают валенки,
А большие собакú
Надевают сапоги.

Однажды провинившийся Давид был заперт матерью в темную ванную комнату. Сидя там, он громко разговаривал сам с собой.
— Это ничего, что здесь темно, — говорил он. — Ночью тоже темно, однако никто не боится.
Он был совершенно спокоен, и мне даже показалось, что наказание не дошло до него. Но, будучи выпущен из ванной, он кинулся к своим кубикам и поспешно начал возводить причудливое сооружение.
— Что ты строишь, Давид? — спросили мы.
— Я строю,— ответил он, глядя нам прямо в глаза,— такой дом, где бы не было ни одного темного угла.
В другой раз Давид рассказал мне о жильце их дома, сконфуженном на войне.
— Он получил конфузию от одной пули, — пояснил Давид. — Жилец услышал, как она летит, и спрятался за своего товарища. Он был трус, этот жилец.
Но пуля никого не тронула и полетела дальше. А жилец остался на всю жизнь ночным сторожем, потому что днем ему было стыдно.

Меня всегда восхищает в Давиде уменье общаться с окружающим его миром. Мне вспоминается ответ, так часто даваемый нам в дни нашего детства.
"Так это устроено",— отвечали взрослые на важнейшие наши вопросы. И мы, дети, смирялись, вздыхая. Дальше спрашивать было нечего. Дальше был великий ледяной барьер, о который мы, маленькие кораблики, стукались носами: "Так это устроено".
Давид не таков. Подобное "устройство" не устраивает его. Ему подавай объяснение. Необъяснимых явлений для него не существует. У него самого всегда имеется под рукой "рабочая гипотеза". Он должен осмысливать виденное, иначе он не может.
Как-то раз он оказался свидетелем одного странного факта: ярости и бешенства двух собак при виде фотоштатива. Собаки — злая умная такса и добрый глупый бульдог — вели себя в таких случаях всегда одинаково. Их шерсть становилась щеткой вдоль спинного хребта, глаза наливались зеленью. Клокоча от злости, они кидались на длинные ноги штатива. Это было непонятно.
Но Давид, увидав это, улыбнулся. Он сказал:
— Они лают потому, что не понимают. Сами они на четырех ногах, люди — на двух. А он на трех. И они не знают, кто это такой.

У Давида отличное художественное чутье. Он не терпит никаких сладостей, чрезмерностей, преувеличений, никакой фальши. Однажды, засыпая, он слушал мой рассказ.
— Взошло солнце, — рассказывала я. — Оно было ярко-желтое и пахло горячим лимоном.
Давид приоткрыл сонный глаз.
— Ты всегда все вынюхиваешь, — брезгливо сказал он. — Как тебе не надоест.
В другой раз я описывала ему старинную Москву, сплошь деревянную, без трамваев, тротуаров, автомобилей и телефонов. Давид слушал затаив дыхание.
— Когда это было? — спросил он меня наконец.
— Давно. Тебя еще на свете не было. И меня тоже.
— Ну как давно? Когда бабушка была обезьяной или еще раньше? — спросил Давид.
И я не улыбнулась, зная, что он не любит беспричинных улыбок.


Но любопытнее всего оказалось наше с ним путешествие на необитаемый остров.
Оно произошло в снежные сумерки в тихой комнате. Снег падал за окном. Горела настольная лампа. Тикали часы.
— Я уберу этот гудильник, — сказал Давид. — Он нам будет мешать.
Мы сели в кресло. Это был моторный бот под названием "Дельфин". "Дельфин" поплыл по бурному морю. Нас уносило бурей в неведомые страны. Ночная туфля у кровати превратилась в шлюпку на горизонте. Она тоже попала в шторм.
Внезапно перед нами вырос черный айсберг, зловеще отражающий наши сигнальные огни. Мы не столкнулись с ним чудом. Это был Рояль.
Понемногу море утихло. Мы вошли в небольшую бухту, темно-красную от водорослей. Это был ковер. И вдруг подлинный, неигрушечный сон сморил меня. Я стала засыпать в этой тихой комнате.
— А как же обратно? — с отчанием воскликнул Давид. — Проснись, ведь нам же надо вернуться.
И он сильно потряс меня за плечо.
— В мое время, — сказала я, с трудом отгоняя дремоту, — в мое время мальчики были много вежливее.
Но тут Давид рассердился. Я впервые увидела его в гневе. Он покраснел, он вскочил на ноги.
— Твое время... твое время! — закричал он. — Время мое, понимаешь. Оно мое.
И снова (в который раз) он оказался прав.
1933

Соловей и Роза
Рецепт весны таков: совершенно свежие и острые почки, облитые солнцем, распускаются на старом тополе (рекомендуется глубоко вдыхать их запах, он один из прекраснейших на свете). Затем над мелко взбитым облаком восходит тонкая луна самой первой четверти, огромная, гораздо больше, чем во время полнолуния. Тут же, вместе с луной, идет тяжелый и теплый дождь: одна капля в минуту.
Пучок маленьких синих куполов столетней церковки в Успенском переулке начинает сиять под звездами. На церковном дворе, пахнущем травой, под старым тополем, раздаются поцелуи: один долгий и два коротких. Московская весна готова.
Приправленная гармоникой из подвального помещения булочной и далеким гулом трамвайного прибоя, такая весна проглатывается с жадностью, но переваривается трудно, и переполнение сердца мучительно...
В других странах есть другие весны, более великолепные. Классические весны с розой и соловьем. Но и в Москве, если глядеть внимательно, есть соловьи и розы. И под московским неярким небом томится соловей, и у розы шипы, и роза колется. Таков рецепт весны.

В Успенском переулке, если поглядеть внимательно, можно обнаружить соловья. Насупротив маленькой синекупольной церкви есть дом. В подвальном помещении — булочная, где по вечерам вздыхает гармоника. А в первом этаже портной Эммануил Соловей "исполняет заказы как штатские, так и военные, а также принимает в починку".
Портной Соловей состоит из тонких ног, сутулых плеч, рыжеватой лысины и слегка рассеянных голубых глаз. Еврею из Минска редко удается быть голубоглазым, но если уж это случается, то такие голубые глаза поражают своим потусторонним выражением. Начинает казаться, что такой еврей все еще плывет в ковчеге и наблюдает мир с араратской высоты.
Заказчики портного Соловья, плохо знакомые с его сущностью, порой приходили в ужас от этих глаз и уверяли себя, что все пропало, что брюки-диагональ будут выкроены наподобие трапеции, что проймы пиджака будут несоразмерно велики и воротник будет топорщиться.
Но так думали те, кто не знал портного Соловья.
Портной Соловей перерождался за работой. Его глаза суживались, как у заклинателя змей. С куском мела в руке, с булавками во рту и сантиметром на шее, он творил заклинания. И вот косная материя покорялась творцу, и из распластанного шерстяного хаоса возникала прекрасная плавная линия.

Во время работы портной Соловей, невзирая на булавки во рту, пел избранные места из Песни
Песней, переложенные им самим на музыку. Особенно любил он благоуханную фразу Суламифи: "Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви". И, слыша вступительные трели его голоса, жена портного Соловья Роза (ибо у каждого соловья есть роза) говорила пятилетнему Изе, страшному хулигану:
— Изя, перестань вбивать гвоздь! Кому я говорю? Ты же слышишь, отец поет "я изнемогаю от любви". Это значит — он приступился к рукавам. Поэтому — чтобы было тихо.
— А я хочу нет,— отвечал Изя и вбивал еще один гвоздь в круп своей многострадальной лошади.

Жена портного Соловья Роза была пышна не в меру и окружена шипами. Она любила Соловья и, любя, ревновала его ко всем другим цветам земли. Особенно опасной в этом смысле казалась ей жена булочника Клавдия Макаровна, вся круглая, как плюшка, с такой глубокой ямочкой на подбородке, как будто там сидела изюминка и потом выпала.
— Почему эта женщина,— говорила Роза Соловью, укладываясь с ним на перинчатом ложе,— почему эта Клавдия смотрит на тебя вбок? Почему она на меня смотрит вбок? Потому что у нее нечистая совесть, Эммануил. Нюма, я тебя уверяю, что она тебе нравится!
— Розочка,— кротко возражал Соловей из-под одеяла,— как ты можешь это думать?
— Ну, предположим. А о чем ты говорил с ней утром через окно, когда гладил серый жилет?
— Розочка, это не я говорил, а она мне сказала, что в мае еще будут холода, Розочка.
— Ну, предположим, холода. А ты что ей ответил, Эммануил?
— Я ей ответил, Розочка, совершенно тоже холодно,— как ты можешь думать что-нибудь обратно противоположное! — я ей ответил, даже Изенька слышал, что я ей ответил... подвинься, золото, а то мне просто нечем дышать. Ты же моя радость...

И Роза прятала свои шипы, и Роза, благоухая любовью, склонялась к Соловью. Так проходил час. Потом Роза засыпала, но Соловей не спал.
В углу спальни (она же мастерская) на деревянном болване висел обыкновенно какой-нибудь недошитый пиджак. Он хитро подмигивал пуговицей и вел с бессонным Соловьем немые разговоры.
— Ну что, дружище,— говорил пиджак,— почему же ты не спишь? Кажется, давно пора. Тебе предстоит еще много работы. Вчера во время примерки я определенно намекнул тебе, что вытачки у меня не на месте.
— Что вытачки,— отвечал Соловей, задумчиво светя голубыми глазами,— что такое вытачки не на месте! У меня душа не на месте.
— Но почему? — вопрошал пиджак, зевнув карманами.— Почему? Я просто теряюсь в догадках... Роза с тобой...
— Розалия Абрамовна со мной, конечно. И наш Изенька — чудный мальчик, вот он спит в своей кроватке, тихий, как наперсток. Но что говорит по этому поводу Суламифь? "На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его".
— Не понимаю,— продолжал пиджак, наморщив лацкан,— я просто удивляюсь тебе. Ты, значит, несчастлив в семейной жизни, Эммануил?
— Вы — провокатор, — возражал взволнованный Соловей.— Молчите! Вы — двубортный мерзавец! Вы хотите вызвать меня на какие-нибудь разоблачения. Я вижу вас насквозь. Вы шиты белыми нитками, и у вас отвратительная подкладка.
И, повернувшись спиной к пиджаку, Соловей засыпал.


Однажды снежным утром звонят.
— Это, наверное, пришли за френчем от этого подозрительного Нутеса,— говорит Роза. (Следует отметить, что Нутес не фамилия. Просто этот заказчик имеет обыкновение в начале каждой фразы говорить "нуте-с", что делает его почему-то крайне подозрительным в глазах Розы Соловей.) — Это, наверное, Нутес,— говорит Роза.— Готов ли френч, Эммануил?
— Френч готов, Розочка,— отвечает Соловей.— Но я боюсь, что это за брюками от Лейбовича, которые не готовы. Он дал их освежить к Новому году.
В это время звонят еще раз.
Роза открывает дверь, обитую клеенкой и войлоком, и молча отступает. В дверях, в меху, в снегу, запрятав руки в меховые рукава, стоит красивая женщина и спрашивает, дома ли портной Соловей.
— Он дома,— отвечает Роза,— но вопрос: что вам угодно? Вы, может быть, от Лейбовича за брюками? — продолжает Роза, сомнительно оглядывая шубку и длинные ресницы.
— Нет, я не от Лейбовича, я сама от себя. Мне нужен костюм. Галифе и френч.
— Вам? Лично вам?
— Мне. Лично мне.
— "Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками",— дрожащими губами шепчет Соловей и хватается обеими руками за сантиметр, висящий у него на шее, чтобы не упасть.
"Вот тебе и Нутес,— думает Роза, глядя на фетровые ботики. — Это таки настоящий Нутес".

Нутес садится на дырявый стул, который обычно служит Изе конюшней, Нутес, обмахнув ресницами Соловья, подтверждает, что ей необходимы галифе и френч из синего шевиота (вот шевиот) для сцены, что она актриса, что ей рекомендовали гражданина Соловья как недорогого и очень-очень приличного Соловья. И что пусть с нее снимут мерку, так как она спешит.
Она спешит. Она торопливо сбрасывает шубку. У нее длинные серьги, на шее зеленые камни. Она становится перед зеркалом и протягивает Соловью руки, плечи, колени — все, что он спрашивает. А Роза, молчаливая и гневная, вся в шипах, записывает объемы.
— Объем талии — шестьдесят восемь, Розочка,— говорит Соловей.— У вас такая перегибчатая талия,— обращается он к Нутес,— что я просто не знаю, как я ее смогу выразить.
Роза кашляет, и Соловей едва не проглатывает булавку.
— Объем груди — восемьдесят четыре, Розочка, — обморочным голосом объявляет Соловей.
Роза записывает молча. Роза молчит, но так страшно, что Изя начинает плакать, утверждая, что его укусила лошадь.
Нутес снова прячется в шубку и, условившись о дне и часе примерки и окунув ресницы в голубое сияние Соловьиных глаз, исчезает.
"Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях",— мысленно напевает Соловей, исчерчивая мелом синий шевиот.— Объем груди восемьдесят четыре. А ресницы не меньше чем полсантиметра. Просто поразительно". И над синим шевиотом, хоть и очень неважного качества, ножницы летают, нежно щебеча, как ласточки.

Костюм готов и отнесен самой Розой по указанному адресу. Костюм готов, и отнесен, и забыт.
Покамест он шился и примерялся, чугунная туча висела над Соловьиным домом. Роза осунулась и от беспокойства и тоски подружилась с женой булочника, Клавдией Макаровной. Изя, предоставленный самому себе, подхватил где-то стригущий лишай. А у самого Соловья глаза поголубели так нестерпимо, что в домоуправлении, когда он вносил квартирную плату за январь месяц, с него ничего не взяли за коммунальные услуги.
Костюм отнесен и забыт.
Но вот прошло полгода. И в Успенском переулке весна...
Портной Соловей, ослабевший от дневной работы и весенней истомы, сидя в сумерках у окна, слышит на церковном дворе поцелуи: два долгих и один короткий. Тяжелая прекрасная туча лежит на западе. Но дождя не будет. Разве что упадут теплые капли, одна в минуту. Месяц тонок. Переполнение сердца мучительно.
И Соловей говорит Розе:
— Розочка, может быть, пойдем в кино?

Кино "Электрические чары" полно влюбленных. Наступает темнота. Шепот, как ветер, проносится по рядам. Рука в руке, щека к щеке, следят влюбленные за приключениями героев. Вместе с ними они скачут на лошадях, свергаются в пенные водопады, открывают гнезда злоумышленников. Сквозь поющие вентиляторы вливается тонкий воздух весны. И пожарный в задних рядах страшно томится, ощущая вокруг себя незримые пожары.
Сегодня в кино "Электрические чары" идет картина "Наводнение в шахте № 17-бис". Наступает темнота. Световой клин упирается в экран. Действие идет, летит. Преступная рука подготовляет катастрофу. Преступной рукой уже пробито отверстие в шахте, откуда в злополучный час хлынет вода. Но злой умысел разгадан. И в шахте по каким-то воздушным мосткам и переходам, по какой-то паутине из перекладин, прямо по воздуху пробирается женщина, которой суждено предотвратить бедствие.
Влюбленные, тесно, как птицы на телеграфных проводах, сидящие в "Электрических чарах", замирая, слышат крик:
— Мои галифе!.. Держите... Держите...

Шахта № 17-бис исчезает. Вспыхивает свет, и возле голубоглазого человека вырастает милиционер.
— Граждане,— говорит он,— никто отсюда не выйдет, покуда галифе, украденные в замешательстве темноты, не будут возвращены в собственные пострадавшие руки.
— Эммануил,— шепчет Роза,— ты меня оскандалил навсегда и навеки.
— Я извиняюсь,— говорит трепещущий Соловей милиционеру,— я извиняюсь... Совсем не в том смысле... Галифе действительно мои, моя работа. На спасительнице из шахты номер семнадцать-бис. И когда я их увидел в воздухе, я как-то смутился. Большая высота и рискованные движения. Я даже испугался за боковые швы.
— Не за швы ты испугался, Эммануил,— всхлипывает Роза.— За эту женщину ты испугался!.. Жаль, что она не сломала себе шею. Стыдись, семейный человек!

Роза, вся в слезах, спит. Но Соловей, ужаленный любовью, не может спать. Впервые за всю свою семейную жизнь он покидает ночью насиженную ветку и выпархивает за дверь.
Над Москвой полночь, но люди не спят, потому что весна коротка. Над Страстной площадью — россыпь звезд. Соловей переулками идет к площади, сам того не замечая.
Эту женщину с ресницами в полсантиметра он видел два раза. Первый раз — когда она принесла синий шевиот, второй раз — когда примеряла его. И вот сейчас он увидел ее в третий раз, в воздухе: волосы струились над шахтой, воротник расстегнут, ресницы распахнуты...


Соловей идет ночью один. Впереди — двое. Они идут рука в руке, щека к щеке, они идут согласно, как один человек, но все же их двое и они счастливы. Соловей, понемногу приходя в себя после наводнения в шахте, начинает видеть и слышать. Черная девочка — возможно, цыганка — продает цветы.
— Купите цветочек,— пристает она к тем двоим, которые идут впереди Соловья.— Купите розочку,— говорит она юноше,— купите для вашей красавицы, для вашей воздушной симпатии.
И Соловей, в бреду, в электрических чарах, завороженный женщиной из шахты, висящей в воздухе, хотя ему даже не предлагают, покупает для нее, для своей красавицы, для своей воздушной симпатии, красную розу без шипов, прекрасную ночную розу любви.
Он несет ее по указанному адресу: Арбат, Николо-Песковский переулок. Он отдает ее дворнику и просит передать немедленно такой-то. К розе приложена записка: "Видел вас сегодня во втором сеансе. Имя не важно, но не забуду никогда".
После чего наступает такая слабость и весь он так дрожит, как будто нес не розу, а паровой утюг.
Губы пересыхают, они жаждут свежести, они погибают от лихорадки.
И, подойдя к ближайшему ларьку Моссельпрома, Соловей тихо говорит опаленным ртом:
— Прошу вас, освежите меня яблоками,
ибо я изнемогаю от любви...
1924
Источник:
Вера Инбер
СМЕРТЬ ЛУНЫ
- М.: "Текст", 2011.
Сайт издательства: TextPbl.Ru
 Другие материалы выпуска >>>
Другие материалы выпуска >>>
 Архив>>>
Архив>>>
 Переводчик "ПРОМТ">>>
Переводчик "ПРОМТ">>>
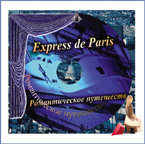


|