L'esprit
de Paris
Герман Гессе
МАГИЯ КРАСОК

Он открыл альбом для эскизов, маленький и самый любимый, на последних страницах — вчерашних, сегодняшних.
Вот конус горы и темные тени скал. Гора у него будто исказилась гримасой, будто кричит от боли.
Вот источник: в полукруге камней на горном склоне сгустились черные тени, выше — пылающий, кроваво-красный гранат в цвету.
Он один поймет это шифрованное послание самому себе, эти поспешные, неутолимые попытки схватить мгновенье, наскоро черкнуть для памяти каждую ту секунду, когда природа и сердце замирали в новом и громком созвучии.


Горний свет! Дыханьем Бога
Дольний мир и тьма согреты,
Краски — это ввысь дорога,
Бог есть мир в сиянье цвета.
Свет и тьма, тепло и холод
В красках явят свой порядок,
Мир, встревожен и расколот,
Вспыхнет спектром новых радуг.
Так в душе у нас искрится
То мученьем, то блаженством
Горний свет… А мы сторицей
Солнца славим совершенство.

Смейся, читатель, но для нас, писателей, самое потрясающее и возбуждающее дело как раз и есть сочинительство — выход в открытое море на челне, одинокий полет через вселенную.
Выбирать одно нужное слово из трех возможных, одновременно чувствуя и слыша всю фразу, которую строишь, вообще — строить фразу и ковать задуманную конструкцию, подтягивая винты потуже, а вместе загадочным образом сохранять ощущение настроя и пропорций всей главы, всей книги — захватывающая работа.
Подобная напряженность и сосредоточенность мне по собственному опыту знакомы лишь из занятий живописью. Там то же самое: правильно и тщательно подобрать одну какую-нибудь краску к другой — дело приятное и легкое, раз научишься, потом так и делай.
Но постоянно держать в памяти все детали картины, даже еще и не написанные, даже вовсе не видимые, угадывать узорчатые сплетения и тонкости ее оттенков — вот что на редкость сложно и удается лишь немногим.

С поля хлеб, зерно везут на торг,
Вольный луг скрывают за оградой:
Нищим путы, богачам простор —
Все ущербно, глухо, безотрадно.
Но в моих глазах невинен мир,
Он иному следует закону:
Пурпур созывает царский пир,
А лиловый песнь поет у трона.
Желтый с желтым, красного еще!
Блекло-синий розовым подсвечен,
Цвет из мира в мир летит лучом,
Волн любви и света спутник вечный.
Правит дух, он выправит разлад,
Зелень возвестит начало гласно,
Новым смыслом станет мир богат,
И на сердце станет радостно и ясно.


Сегодня уже около полудня я понял и почувствовал, что к вечеру возьму в руки кисть.
В последние дни дул ветер, вечером кристальная ясность, утром облачность, а теперь все окутала вот эта легкая сероватая дымка, этот мечтательный воздушный покров — о, я сразу его узнал, в косых лучах вечерней зари красота будет несказанная.
Рисовать можно и при другой погоде, вообще при любой погоде, здесь всегда красиво, даже в дождь, даже в такое неуютное, стеклянно-прозрачное утро, когда дует резкий альпийский ветер и где-нибудь в деревне, отсюда часах в четырех, наперечет все окошки.
Но сегодня день особенный и редкий, в такие дни рисовать не то что можно, а нужно. Каждая крапинка — красная ли, желтая — во весь голос взывает к нам из зелени, всякий увитый виноградом старый колышек всерьез отбрасывает тень, погрузившись в раздумья, а в самой темной тьме любой цвет горит чисто и ярко.
Я помню такие дни в детстве, в каникулы. Правда, о ту пору у меня была удочка, а не кисточка. Удить рыбу тоже можно когда угодно. Но вот я помню какие-то дни с особым ветерком и запахом, с особой влажностью, с облаками и тенью таких очертаний, что я знал наперед уже утром: после обеда к нижним мосткам пойдет усач, а к вечеру возле сукновальни клюет окунь.
Мир с тех пор изменился, да и жизнь моя тоже, теперь радость и полнота счастья в такой рыбачий денек мальчишеских времен мне уже кажутся неправдоподобной сказкой.
Но сам-то человек едва ли меняется, и как же ему без радости, без утехи? Вот у меня теперь вместо рыбалки акварель, и, когда все приметы обещают хорошую для нее погоду, в моем усталом сердце звучит легким отголоском далекое детское счастье каникул, охота и азарт, это лучшие мои дни, именно таких дней я дожидаюсь каждое лето.

Когда в Тессине мы отправляемся на этюды и вместе пишем один пейзаж, то оба стараемся запечатлеть не столько уголок природы, сколько собственную любовь к этой природе, и у каждого из нас этот пейзаж получается свой, уникальный.
Пусть порой мы умеем выразить лишь свою печаль и сознание собственного несовершенства, но и в том есть ценность. В стихах даже самая глубокая печаль, даже самое отчаяние, как у Ленау, имеет привкус сладости.
А сколько художников, оцененных только профанами да невеждами, впоследствии раскрылись как истинные искатели, а их работы оказались для последователей отраднее и милее сердцу, чем величайшие творения мастеров-классиков.
Вот так, сынок, мы вместе — ты да я — трудимся над творением, старым как мир, и нам дóлжно, нам дозволено верить, что у Бога в отношении каждого из нас есть мнение и отдельные намерения, пусть мы сами их вовсе не распознаем, а можем только подозревать.

Вот эскизы в красках, на больших белых листах яркие цветовые пятна акварели: красная вилла в лесу горит огнем, подобно рубину на зеленом бархате, железный мост близ Кастильи — красный, а гора синевато-зеленая, земляной вал — фиолетовый, дорога — розовая.
Дальше — труба кирпичного завода как красная ракета в холодной светлой зелени деревьев, синий дорожный знак и плотное, будто накатанное на лиловом небе облако.
Это удачная картинка, пусть останется. А ворота в хлев жалко: красновато-бурая краска хороша на стальном фоне неба, она и говорит, и звучит, но закончить-то не удалось, солнце светило на лист до рези в глазах. Он долго потом плескал в лицо водой из ручейка.
Ладно, хотя бы этот буро-красноватый и позади тяжелая стальная синева удались, тут любой малейший оттенок, любой малейший мазок — без фальши, без промаха. Только с капут-мортум такого добьешься.
В этой самой сфере и кроются тайны. Естественные формы, от верха до низа, от толщины до ширины, можно сместить, отказавшись от обычных способов подражания природе. И натуральные краски, конечно, можно подменить, усиливая их или приглушая, передавая в любой из сотен вариаций.
Но чтобы запечатлеть в цвете подлинность природы, приходится добиваться точного соотношения нескольких красок, того же напряжения между ними, что и в самой природе. Тут не до свободы, тут пока нужен натурализм, даже если серую краску заменишь оранжевой, а черную — краплаком.

За те годы, что я занимаюсь живописью, мне удалось отойти от литературы на такое расстояние, какое трудно переоценить и какое я едва ли преодолел бы иным путем.
Не столь существенно, обладает или не обладает моя живопись самостоятельной ценностью. Для искусства — в отличие от промышленного производства — время не играет роли, тут потерянное время не в счет, если в итоге достигнут предельный уровень мощности и качества.
Как писатель я без живописи ушел бы недалеко.


Вот ведь какие краски!
Синяя, желтая, белая, красная — и зеленая.
Вот ведь какие звуки!
Сопрано и бас, труба и гобой.
Вот ведь каков язык!
Слова, строки и рифмы,
Поцелуи сочетаний,
Пляс и строй согласований.
Ты поиграл в эти игры,
Ты поддался их чарам?
Тебя ожидает мир,
С радостью открывая
Душу свою и смысл.
Ты любил и добивался,
Ты мечтал и заблуждался…
А скажи теперь и здесь,
Что есть радость, что есть боль?
Ми-бемоль и ре-диез,
Соль-диез и ля-бемоль —
Как блаженство или муку
Различишь ли ты по звуку?
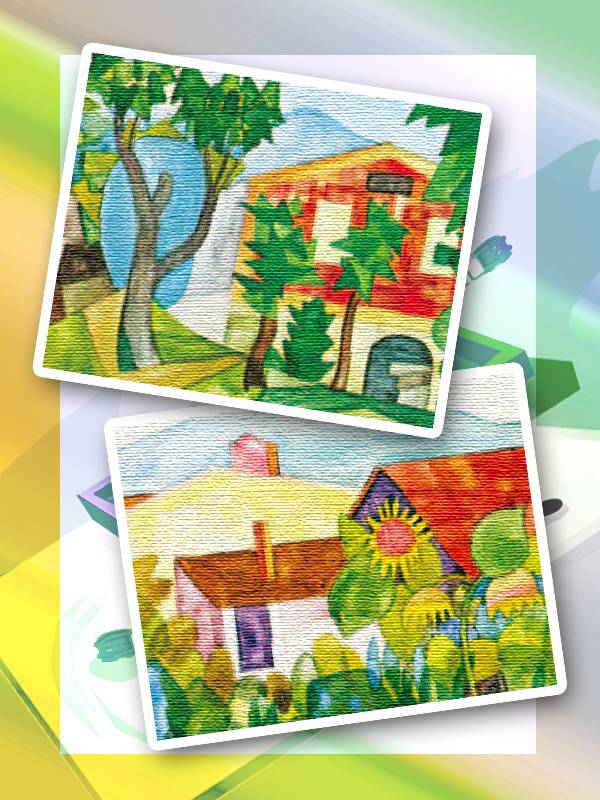

Будто иначе и не бывает, сидел я на складном стуле у виноградника в одной южной долине, возле низенькой ограды. На коленях у меня картонка, в левой руке легкая палитра, в правой кисточка.
Рядом в мягкую землю воткнута моя трость, лежит рюкзак, он раскрыт, видны маленькие мятые тюбики с краской.
Я взял один, отвернул крышечку и с наслаждением выдавил на палитру каплю прекрасного чистейшего кобальта, потом белил, потом изумрудно-зеленого веронского — это для вечернего воздуха, еще брызнул чуточку краплака.
Рассмотрев далекие горы и легкую золотистую дымку облаков, я подмешал к красному ультрамарин и затаил дыхание от усердия, потому что хотел добиться несказанной нежности, легкости и воздушности.
Чуть помедлив, кисточка моя быстрым, округлым движением окунула светлое облако в синеву с серой и лиловой тенью, и тогда едва намеченная зелень и листва каштанов вблизи вдруг зазвучали в лад с глуховатым красным и синим вдали, раскрылись во взаимовлиянии.
Тогда зазвучали дружество и взаимное притяжение красок, их обоюдное согласие или враждебность, и вот уже вся жизнь — внутри ли, вокруг ли меня — сосредоточилась в маленькой картонке на моих коленях, и все, что я хотел сказать и принести, открыть и простить миру, а мир мне, — все тайно и пылко свершилось в белизне и в синеве, в радостной и смелой желтизне, в ласковой и укромной зелени.
И я чувствовал: вот она, жизнь! Это моя часть мира, мое счастье, мое бремя.
Тут я дома. Тут ждет меня услада, тут я король.
Тут я, счастливый и независимый, могу повернуться спиной ко всему глубокоуважаемому миру.
|