L'esprit
de Paris
ЧЕРНЫЙ БЛОКНОТ:
время для встреч


Был октябрь, воскресенье, почти вечер, и ноги сами завели меня сюда — в любой другой день я обошел бы район стороной. Нет, тут не паломничество. Просто по воскресеньям, особенно под вечер, время часто дает брешь. Нужно только уметь проскользнуть в нее.
Проходя мимо одиннадцатого дома по улице Одессы и глядя на его грязноватые бело-бежевые стены — а шел я по другой стороне, — я вдруг почувствовал, что брешь раскрылась предо мной: будто щелкнуло что-то.
Тогда я часто ходил там пешком: район начинали сносить, и приходилось шагать вдоль пустырей, мимо низких домов с заделанными кирпичом окнами и гор строительного мусора — точно после бомбежки. И среди всего этого — красная машина и запах кожи в салоне — вот то яркое пятно, вокруг которого память…
Память ли? Нет. В то воскресенье я окончательно убедился, что время — недвижно, и если скользнуть в ту брешь, то найдешь все нетронутым, на прежних местах. Хотя бы даже красную машину...

Уже стемнело, когда я добрался в то воскресенье до проспекта Мэн. Я пошел по четной стороне, вдоль новых высотных домов, идущих единым фасадом.
Ни одного светлого окна... Нет, все ведь и вправду было. И улица Вандам выходила на проспект где-то здесь — но в этот вечер дома стояли плотно, единой стеной, и нигде не было даже зазора. Оставалось только смириться с фактом: улицы Вандам больше нет.
Я подошел к стеклянной двери одного из зданий, примерно там, где мы прежде сворачивали на улицу Вандам. Внутри — неоновый свет. Длинный и широкий коридор, а по бокам, за стеклянными стенами, — офисы. Может, какая-то часть улицы Вандам еще сохранилась там, внутри квартала, и теперь зажата меж новых высоток. Мне вдруг сделалось смешно от этой мысли.
Продолжая вглядываться в глубь коридора, я понял, что не вижу конца. Неоновый свет резал глаза. Вероятно, этот коридор просто повторяет русло улицы Вандам. Решив так, я зажмурился. Кафе находилось в самом ее конце, где она переходила в тупик, упираясь в стену вагоноремонтных мастерских. Там Поль Шастанье ставил свою машину — у самой черной стены.
Прямо над кафе была гостиница «Персеваль» — так называлась одна улица неподалеку, — но теперь и она погребена под многоэтажными домами. В черном блокноте записано все....
Все вспоминается вразброс, рывками и, мерцая, часто сливается воедино. Совсем другое — четкие записи в блокноте. Они нужны мне, чтобы заново склеить киноленту из разбежавшихся в стороны кадров.
Агхамури, Данни, Дювельц. Марсиано... Я изо всех сил стараюсь воскресить их образы, нащупать что-то, что заставило бы их после стольких лет проявиться во всей полноте и жизни, чтобы я снова ощутил их присутствие.
Даже не знаю… Запах? Дювельц всегда выглядел аккуратно: ровные светлые усы, галстук, серый костюм.
Он пользовался одной и той же туалетной водой — много лет спустя я узнал ее название, когда нашел в гостиничном номере забытый кем-то флакон. «Pino Silvestre», «лесная сосна» по-итальянски.
На пару секунд запах «Pino Silvestre» позволил мне увидеть со спины блондина, тяжело шагавшего вниз по улице Монпарнас: это Дювельц. И — все исчезло. Так, проснувшись, мы часто не помним сна — лишь легкий отпечаток, который тает с приходом дня...

Мне вечно было не по себе в здешних переулках. В самом деле, вид у них мрачноватый. Они вспоминаются мне всегда под дождем, хотя другие районы Парижа я представляю скорее залитыми солнцем.
Мне кажется, после войны Монпарнас выцвел. «Куполь» и «Селект» еще сверкали редкими огнями на том конце бульвара, но сами кварталы утратили свой дух. Душа и талант покинули здешние места.
Как-то в воскресенье под вечер я шел здесь с Данни — там, где кончается улица Одессы. На улице никого не было, кроме нас, и начинался дождь. Тогда, прячась от него, мы забежали в кинотеатр «Монпарнас» и уселись в глубине зала.
Мы попали в антракт, поэтому не знали, как называется фильм. В огромном полузаброшенном кинотеатре мне было так же неуютно, как и на здешних улицах. Пахло, будто из вентиляционных решеток метро.
Среди зрителей попадались солдаты-отпускники — когда стемнеет, поезда повезут их в Бретань, Брест или, скажем, в Лорьян. По укромным углам ютились парочки, и, когда звук фильма затихал, были слышны их стоны, вздохи и все нарастающий скрип кресел…
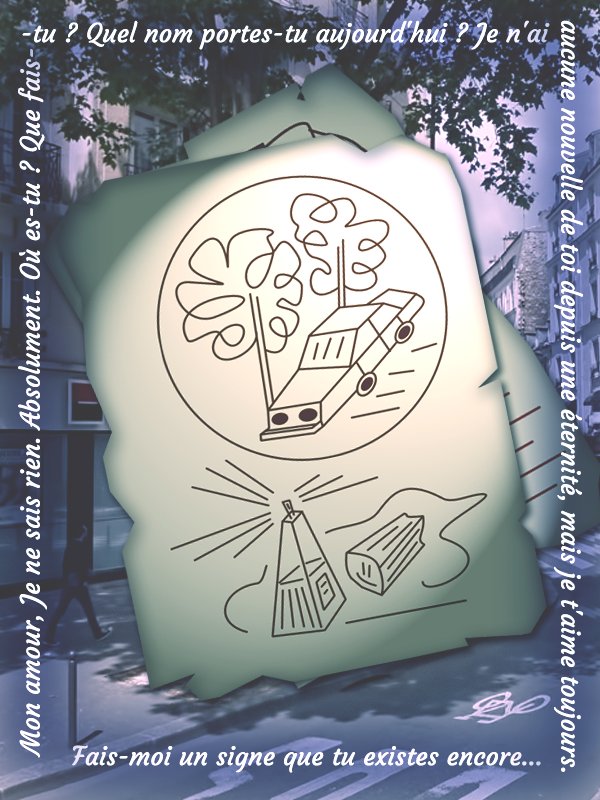 Впрочем, нравится мне район или нет — это не имело значения. Мне теперь кажется, будто я жил тогда две жизни, одна внутри другой. Точнее, эта вторая, яркая, жизнь каким-то образом соединялась с повседневной, тусклой жизнью, придавая ей особое таинственное свечение, которого на самом деле в ней не было.
Впрочем, нравится мне район или нет — это не имело значения. Мне теперь кажется, будто я жил тогда две жизни, одна внутри другой. Точнее, эта вторая, яркая, жизнь каким-то образом соединялась с повседневной, тусклой жизнью, придавая ей особое таинственное свечение, которого на самом деле в ней не было.
Так бывает во сне, когда нам являются те места, где мы бывали много лет назад: они вдруг принимают необычный вид, как та унылая улица Одессы или пахнущий метро кинотеатр.

В тот вечер я оставил Данни у дверей отеля. Я заметил, что Агхамури ждал ее посреди холла в бежевом плаще. И это я тоже записал в блокнот: «Агхамури, бежевый плащ». Наверное, чтобы потом иметь какую-то опору, ориентир для памяти.
В тот короткий, сумрачный период моей жизни я старался записать как можно больше таких случайных, незначительных деталей.
«Ты знакома с его женой? — Нет, они почти не видятся. Они разошлись, или вроде того». Обрывки разговора, какие слышишь мимоходом, посреди улицы. И никогда не узнаешь, о ком шла речь.
Так поезд проезжает мимо станции быстрее, чем успеваешь прочесть название, — и тогда, уткнувшись лбом в стекло, глядишь на мост через реку, на деревенскую часовню, на корову, замечтавшуюся под деревом, вдалеке от стада. Надеешься, что на следующей станции прочтешь табличку и тогда станет ясно, в каких ты краях.
Я больше никогда не видел тех, чьи имена остались в черном блокноте. Они, похоже, были чем-то мимолетным в моей жизни, и я едва вспоминаю, даже как их зовут.
Обычные встречи, но неизвестно, случайные ли. Есть в жизни такое время, когда ты стоишь на перекрестке и пока еще можешь выбирать, куда идти. Время для встреч, как было написано на обложке одной книжицы, которую я как-то нашел на развале, гуляя по набережной.

На террасе и в большом зале за моей спиной сидели туристы и студенты. Ближе всех ко мне был столик, за которым что-то отмечала компания учеников Горной школы, и я невольно слышал их разговор. Должно быть, праздновали начало каникул. То и дело фотографировали друг друга на айфоны при тусклом свете сегодняшнего дня.
Самый обычный день, начало вечера. На этом же самом месте мы сидели с Данни, и я моргал от резкого света, и мы едва слышали друг друга из-за гула разговоров, которые вели между собой Вилли с улицы Гобелен и другие обступившие нас тени со страниц списка, — и смысл их слов утерян навсегда.
Когда я листаю черный блокнот, то испытываю два противоречивых чувства. Если я вдруг не нахожу каких-то деталей, мне думается, что просто в то время я был готов ко всему и ничто не казалось мне удивительным. Беспечность молодости?
Но потом я перечитываю отдельные фразы, имена, заметки, и мне начинает казаться, будто это сигналы морзянки, которые я слал тогда себе в будущее. Да, будто я пытался делать засечки, метки, чернилами на бумаге, которые позже выведут меня на нужный путь и помогут распутать и разъяснить все то, что я проживал тогда, не понимая.
Точки и тире, посланные наугад, в минуты глубочайшей растерянности. И пройдут годы, прежде чем я смогу их расшифровать...

437-41-10. Гудки тянутся один за другим, и никто не берет трубку — я вообще был удивлен, что номер еще существует, спустя столько лет. Как-то раз, вечером, когда я в очередной раз набрал 437-41-10, вместо гудков услышал потрескивание и чьи-то далекие голоса.
Наверное, эта линия уже давным-давно была заброшена, как и десятки других. И возможно, какая-нибудь подпольная организация использует ее теперь для тайных переговоров. Наконец я различил женский голос, с механической монотонностью говоривший что-то, что нельзя было разобрать.
Служба точного времени? Или, быть может, голос Данни дошел до меня сквозь годы из затерянного где-то загородного дома?
Я заглянул в телефонный справочник Эр и Луар, который нашел на блошином рынке в Сент-Уан, среди целого склада прочих. В Фейезе оказалось всего с десяток абонентов, в том числе и нужный мне номер, отворявший «Врата прошлого». Так назывался детективный роман, который я нашел на книжных полках того загородного дома, и мы с Данни оба прочли его.
Я позвонил в справочную и спросил, какой теперь номер в имении Барбери, район Фейез в Эр и Луар. И снова голос мой зазвучал, будто из могилы. «Фейез через “и краткое”?». Я повесил трубку.
Что толку? За столько лет мадам Дорм наверняка исчезла из телефонных книг, да и дом не раз менял хозяев и перестраивался, так что я даже не узнаю его теперь, если увижу.
Барбери. Этрельская мельница. Фрамбуазьер. Слова проступают, нетронутые, как тела тех молодоженов, которых нашли в горах, в глыбе льда, — прошло много веков, а они все так же молоды...
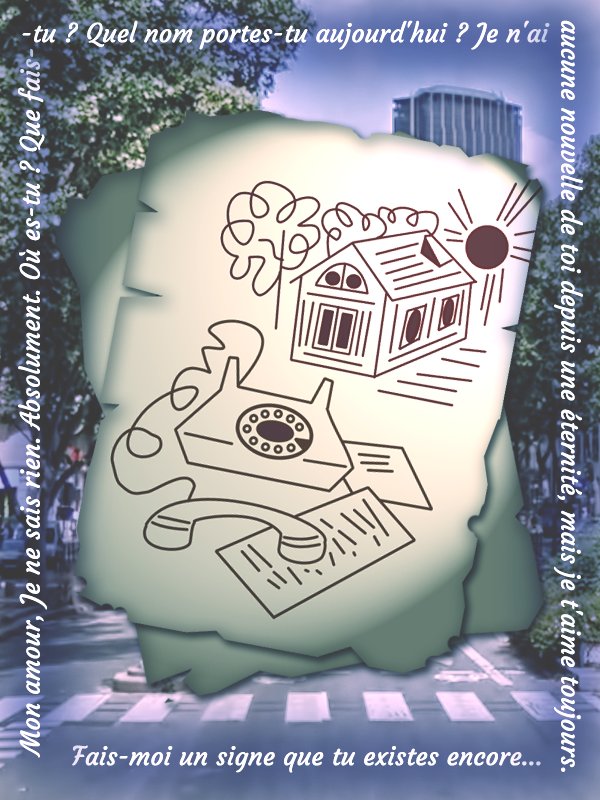 Барбери. Так назывался тот дом. Я до сих пор вижу его симметричный белый фасад за листвой аллеи. Три года назад я ехал в поезде и листал газету, пробегая глазами объявления; их теперь куда меньше, чем было раньше, когда я переписывал их на страницы черного блокнота.
Барбери. Так назывался тот дом. Я до сих пор вижу его симметричный белый фасад за листвой аллеи. Три года назад я ехал в поезде и листал газету, пробегая глазами объявления; их теперь куда меньше, чем было раньше, когда я переписывал их на страницы черного блокнота.
Нет больше вакансий. Нет пропавших собак. Нет гадалок. Ни одного загадочного сообщения, вроде: «Мартина! Позвони нам. Мы все, Ивон, Хуанита и я, очень волнуемся».
Но одно объявление привлекло мое внимание. «Продается старинное имение. Эр и Луар. Поселок между Шатонеф и Брезоль. Парк. Пруды. Конюшни. Тел. 02-07-33-71-22, агентство “Паккарди”».
Мне казалось, я узнал тот дом. Я переписал объявление в черный блокнот, на последней странице внизу — как заключение...

Листая черный блокнот, я склоняюсь над своим прошлым. Произнося эту фразу, я улыбаюсь. «Человек над своим прошлым» — так называлась книга, которую я нашел в том самом доме, на стеллаже, — он стоял в гостиной у окна.
Но прошлое ли это? Нет, не о прошлом я говорю, а о моментах того вневременного, чистого бытия, которое я страница за страницей вытаскиваю из плоского и тусклого настоящего, чтобы заиграли в нем свет и тени.
Сегодня день, идет дождь, и все тонет в серых тонах, люди, вещи, — и я с нетерпением жду ночи, когда у предметов прорежутся грани, проступят в контрасте света и тени.
Время исчезло, и все теперь заново: в руке у меня все та же ручка, и снова я заполняю листы, — понадобилась почти вся моя жизнь, чтоб вернуться к тому, с чего начинал.
Прошлой ночью мне снова приснилось, что я иду на почту. Подав в окошко извещение на свое имя, я получаю бандероль и уже заранее знаю, что внутри. Но на этот раз мне удается прочесть «отправителя»: мадам Дорм. Барбери. Фейез, Эр и Луар. А на почтовой бумаге штамп: «1966 год».
На улице я вскрываю пакет. Я и забыл, что писал тогда на листках в клетку, вырванных из блокнотов с рыжей обложкой фирмы «Rhodia». Чернила были холодного голубого цвета, и это я тоже забыл. Девяносто девять страниц, последняя исписана не до конца. Почерк убористый, много исправлений и зачеркиваний.
Я иду, никуда не сворачивая, и крепко держу рукопись под мышкой, боясь потерять.
Летний вечер. Я иду все прямо...
|